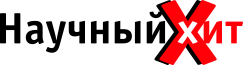Химия спасает жизнь
Гематолог Валерий Савченко рассказывает, как преодоление распространенного предрассудка — о том, что беременным нельзя проводить химиотерапию, спасло жизнь уже 40 детям.

Анна Ковтун (29 лет) и Тимофей (2,5 года), Малоярославец
Двадцать лет назад был составлен список медицинских показаний для прерывания беременности. Онкологические процессы шли там первым номером. С моей точки зрения, эта формулировка не вполне корректна: слова «показания для прерывания» обладают активным залогом и априорно определяют отношение врачей к пациенту, доводя его до уровня произвола. Мнения пациента и спрашивать нечего — аборт показан, и все. Но здесь возникает вопрос: как мы можем решать, на что пациентка имеет право, а на что нет?
Лейкемия обычно считается пессимистической болезнью, при которой большинство людей, что ты с ними ни делай, все равно умрут. Однако такое представление не имеет под собой никаких оснований. Химиотерапия, существующая в научно-практической медицине двадцать с лишним лет, принципиально изменила эту ситуацию. Шансы пациента, не достигшего 60 лет, на ремиссию составляют от 30% до 80%. И беременные женщины не являются исключением.
Вообще, развитие острого лейкоза у беременных — событие довольно редкое, такое бывает в одном случае на 75-100 тыс. беременных. Раньше таким женщинам тотально прерывали беременность, и заканчивалось это одним: после удаления плода на больших сроках пациентка не была готова к прохождению химиотерапии, восстановления больной приходилось ждать несколько месяцев, время уходило, лейкоз развивался быстро, и в итоге погибали как плод, так и пациентка. Правда, об этом никто не говорил вслух: естественно, онкологическая болезнь — одна из самых злокачественных, и в детали никто не вдавался.

Юлия Барцевич (30 лет) и Яна (10 лет), Москва
Первая пациентка появилась у нас 19 лет назад, и я даже не помню, по каким обстоятельствам. Она приехала из Тамбова, беременная на сроке в двадцать пять недель. Наверное, ее прислали к нам местные гематологи, поскольку на тот момент ни они, ни вообще кто бы то ни было в отделениях гематологии по всей стране не представляли, что делать в этой ситуации. Вообще, к нам часто присылают больных из других городов — как правило, на консультацию по подбору химиопрепаратов. Изначально предполагая, что плацента обладает сильными функциями защиты плода от токсичного воздействия химиопрепаратов, мы тем не менее боялись давать ей лекарства в полных дозах, опасаясь, что они частично проникнут сквозь плацентарный барьер и вызовут аномалии развития у плода. Мы лечили ее «сдерживающе», не в адекватных дозах, ее лейкемия не развивалась, но и не уходила. Впрочем, нам удалось довести ее беременность до тридцати шести недель, после чего мы ее родоразрешили, и на свет появился отличный мальчик. Но, поскольку мы лечили болезнь неадекватными дозами, молодая мать погибла. А мальчик, Андрюша Жирков, жив. Сейчас ему девятнадцать лет. Живет с бабушкой и дедушкой, учится в техническом училище, не гулена, не курильщик, не пьяница. Правда, маму он, конечно, не помнит.
Я понял, что мы лечили первую пациентку не так, как следовало. Дать первую дозу высокотоксичного препарата неимоверно сложно: всегда страшно взять на себя ответственность. Но когда к нам приехала на консультацию очередная беременная женщина, жительница Екатеринбургской области, Лена Забуга, мы решили проводить ей химиотерапию в полном объеме. Лене мы вводили антрациклиновый антибиотик рубомицин и цитарабин — в полных дозах, без снижения. И выяснилось, что плацента «не пропускает» к плоду химиопрепараты. Совсем.
У Лены Забуги, когда она поступила к нам, была «ургентная» ситуация: лейкоз галопировал, и медлить было нельзя. Мы даем ей полные дозы химиопрепаратов, проводим один курс, получаем ремиссию, родоразрешаем, она рожает своего мальчишку. Тогда мы еще не знали, что только что родившая женщина, ранее перенесшая химиотерапию, обладает пониженным иммунитетом, и повторный цикл надо проводить не раньше чем через месяц после родоразрешения. Мы провели Лене повторную терапию всего лишь через две недели после родов, развились страшные инфекционные осложнения, цитомегаловирусная инфекция. Она лежала у нас три недели с аппаратом для искусственной вентиляции легких, но выжила — и уже 12 лет живет в состоянии ремиссии.
После случая с Леной я понял, что основная наша цель — минимизировать лейкемию до момента родоразрешения. Провести терапию, добиться ремиссии и сделать так, что будто бы рожает здоровая женщина. То, что цитостатические препараты не проникают сквозь плацентарный барьер, мы в институте поняли по первым же анализам крови, которые брали у новорожденных. Честно говоря, мы ждали некоторого подавления внутреннего кроветворения, но нет: даже если у мамы в момент родов было маловато лейкоцитов, то у ребенка их было нормальное количество. А все — из-за плаценты.

Анна Петрова (30 лет) и Петр (3 года), Москва
Возьмите любой хороший учебник иммунологии, и первая глава там обязательно будет посвящена иммунологии плаценты — потому что это совершенно фантастический орган. Ведь женщина вынашивает чужеродную ткань, но плацента не приводит к иммунному конфликту между клетками женщины и плода. Все чужеродное откачивается плацентой, как помпой, к плоду проникает только то, что необходимо ребенку из крови матери. А остальное не проходит. И именно поэтому мы можем давать беременной женщине дозу химиопрепаратов, соразмерную с дозой здорового мужчины.
Если диагноз «лейкоз» ставится беременной в первом триместре, то аборт ей рекомендован, поскольку у нее еще не сформирован достаточный плацентарный барьер и плод не защищен от токсичного воздействия химиопрепаратов. Однако, удивительным образом, практически у всех беременных женщин лейкемия обнаруживается либо во втором, либо в третьем триместре — примерно со срока в 20 недель. Вероятно, это происходит из-за гормональных изменений, и кровь «острее» реагирует.
Я не могу сказать, почему в нашем институте практика проведения адекватной химиотерапии беременным женщинам стала своеобразным научным и клиническим прорывом. Это страшная ответственность — назначать беременной, а затем роженице такую тяжелую терапию. Такие процедуры, как переливание ей тромбоцитных масс, кажутся просто невозможными. Но это все ерунда на самом деле. Считается, что беременные — слабые, что они ничего не могут, но эти догмы — чистой воды бред. У беременных фантастическая способность к адаптации. За почти 20 лет работы у нас не было ни одной смерти матери в момент химиотерапии. Беременные женщины переносили лечение точно так же, как и все остальные.
Впрочем, это вовсе не означает, что они переносили лечение легко. Программа химиотерапии зависит от формы лейкемии, но в случае с беременными, безусловно, требует гораздо большего контроля. Параметры у наших беременных критические: сто лейкоцитов вместо семи тысяч, а тромбоциты — двадцать тысяч вместо двухсот, причем не свои, а «закачанные» в результате переливания тромбоцитных масс. Приходится делать и трансфузию, и проводить курсы антибиотиков, и держать постоянный контроль, чтобы не было гипотрофии плода и отслойки плаценты. Нужно иметь и гематологическую, и хирургическую службы, чтобы в случае развития «ургентной» ситуации — например отслойки плаценты и кровотечений — развернуть операционную в течение пяти минут. Наши гематологи — универсальные военные — должны, помимо прочего, постоянно носить при себе стетоскоп, чтобы слушать сердце плода. Дежурной акушерской службы у нас нет, и поэтому, если у плода развивается тахикардия, надо отслеживать ее на самых ранних стадиях, чтобы быть настороже.
Все пациентки подсознательно понимают, что происходит. Беременные женщины — они как солдаты. У них есть такой грубый мотивационный вектор, на который нанизывается все, чем они живут. Для них вынашивание ребенка — основополагающая вещь. Поэтому все они очень собранные, стеничные и не отделяют свою жизнь от жизни ребенка.
По иронии судьбы, когда я учился на шестом курсе, то посещал лекции замечательного акушера-гинеколога Зои Михайловны Федер. Я не собирался быть акушером-гинекологом, мне просто очень нравилось, как она преподает. Потом наши пути разошлись, мы жили в совершенно разных областях, но 30 лет спустя, когда в институте мы занялись беременными женщинами, я пригласил Зою Михайловну к нам — она уже вышла на пенсию и стала работать консультирующим акушером-гинекологом. Она, кстати, была против полных доз химиотерапии и кричала на меня за то, что я «мучаю несчастных женщин». Это нормально. В медицине нужно кричать. Без крика нет противостояния, нет желания двигаться дальше. Для принятия решения нужен оппонент, и я всегда говорю, что от оппонентов нельзя избавляться — наоборот, их надо искать, и двигаться вперед.
Наши врачи присутствовали на всех первых родах — такие рождались аккуратные, маленькие, кукольные дети. Половина новорожденных родилась у нас, половина — в обычных роддомах. Доходило до абсурда: мы в гематологическом научном центре роддом устроили, а как новорожденных легализовать?! Нам приходилось левыми путями справки доставать, чтобы выдать справку о рождении.
Если роды проходят в нашем институте, при необходимости и по первому требованию к нам приезжают из Перинатального центра на Севастопольском проспекте — на мотоциклах, чтобы не попасть в пробку. Педиатры из выездных бригад приезжают к нам из Морозовской и Филатовской больниц — если вдруг дети недоношенные, то с кювезами. Это такая взаимовыручка профессионалов: ты идешь навстречу, и тебе — тоже. А что еще делать? Эти женщины — они никому не нужны. Лучше от них подальше держаться, а то вдруг умрут. А война — она все спишет. Так вот. Не спишет. Они имеют право на существование, равно как и их дети — здоровые и очень хорошие.
Проблема еще и в том, что никто не говорит беременной женщине, что шансы на излечение от лейкоза у нее примерно одинаковые с «обычной» женщиной. С другой стороны, часть пациенток все-таки погибает, и с таким трудом рожденный ребенок может остаться один-одинешенек. Благодаря нашему лечению беременных на свет появилось сорок детей. И никто из них не остался одиноким — мало того, они все развиваются несколько лучше своих сверстников, поскольку их родные уделяют им повышенное внимание.
В академическом сообществе на меня смотрят со смесью уважения и удивления: дескать, все это здорово, Савченко, но на кой ляд тебе эти дополнительные приключения, эти бабы с пузом… Но возьмите вот такой случай: у меня была пациентка. Она родила мальчика. Да, она погибла десять лет спустя от рецидива, но ее сын помнит маму.
Процент выживания женщин при лейкемии одинаковый и у беременных, и у небеременных: 50%. Но при грамотной терапии эти женщины успевают родить, а погибают при рецидивах заболевания. Я долго не мог понять, как сформулировать свою концепцию. А потом просто написал: «При лейкемии есть концепция спасения жизни. Если ты будешь спасать одну из двух, то не спасешь никого. Если две — то точно спасешь одну». Вот и все. Очень просто. Расхожий в акушерстве принцип «спасать сначала ребенка, а потом — мать» в нашем случае не работает. И если говорить о социальном вкладе Валерия Савченко и всего огромного коллектива нашего института, то можно сказать точно: мы единственные, кто увеличил народонаселение от 0 до 40. Всего 40 детей, зато каких — первых.

Анна Ковтун (29 лет) и Тимофей (2,5 года), Малоярославец
Двадцать лет назад был составлен список медицинских показаний для прерывания беременности. Онкологические процессы шли там первым номером. С моей точки зрения, эта формулировка не вполне корректна: слова «показания для прерывания» обладают активным залогом и априорно определяют отношение врачей к пациенту, доводя его до уровня произвола. Мнения пациента и спрашивать нечего — аборт показан, и все. Но здесь возникает вопрос: как мы можем решать, на что пациентка имеет право, а на что нет?
Лейкемия обычно считается пессимистической болезнью, при которой большинство людей, что ты с ними ни делай, все равно умрут. Однако такое представление не имеет под собой никаких оснований. Химиотерапия, существующая в научно-практической медицине двадцать с лишним лет, принципиально изменила эту ситуацию. Шансы пациента, не достигшего 60 лет, на ремиссию составляют от 30% до 80%. И беременные женщины не являются исключением.
Вообще, развитие острого лейкоза у беременных — событие довольно редкое, такое бывает в одном случае на 75-100 тыс. беременных. Раньше таким женщинам тотально прерывали беременность, и заканчивалось это одним: после удаления плода на больших сроках пациентка не была готова к прохождению химиотерапии, восстановления больной приходилось ждать несколько месяцев, время уходило, лейкоз развивался быстро, и в итоге погибали как плод, так и пациентка. Правда, об этом никто не говорил вслух: естественно, онкологическая болезнь — одна из самых злокачественных, и в детали никто не вдавался.

Юлия Барцевич (30 лет) и Яна (10 лет), Москва
Первая пациентка появилась у нас 19 лет назад, и я даже не помню, по каким обстоятельствам. Она приехала из Тамбова, беременная на сроке в двадцать пять недель. Наверное, ее прислали к нам местные гематологи, поскольку на тот момент ни они, ни вообще кто бы то ни было в отделениях гематологии по всей стране не представляли, что делать в этой ситуации. Вообще, к нам часто присылают больных из других городов — как правило, на консультацию по подбору химиопрепаратов. Изначально предполагая, что плацента обладает сильными функциями защиты плода от токсичного воздействия химиопрепаратов, мы тем не менее боялись давать ей лекарства в полных дозах, опасаясь, что они частично проникнут сквозь плацентарный барьер и вызовут аномалии развития у плода. Мы лечили ее «сдерживающе», не в адекватных дозах, ее лейкемия не развивалась, но и не уходила. Впрочем, нам удалось довести ее беременность до тридцати шести недель, после чего мы ее родоразрешили, и на свет появился отличный мальчик. Но, поскольку мы лечили болезнь неадекватными дозами, молодая мать погибла. А мальчик, Андрюша Жирков, жив. Сейчас ему девятнадцать лет. Живет с бабушкой и дедушкой, учится в техническом училище, не гулена, не курильщик, не пьяница. Правда, маму он, конечно, не помнит.
Я понял, что мы лечили первую пациентку не так, как следовало. Дать первую дозу высокотоксичного препарата неимоверно сложно: всегда страшно взять на себя ответственность. Но когда к нам приехала на консультацию очередная беременная женщина, жительница Екатеринбургской области, Лена Забуга, мы решили проводить ей химиотерапию в полном объеме. Лене мы вводили антрациклиновый антибиотик рубомицин и цитарабин — в полных дозах, без снижения. И выяснилось, что плацента «не пропускает» к плоду химиопрепараты. Совсем.
У Лены Забуги, когда она поступила к нам, была «ургентная» ситуация: лейкоз галопировал, и медлить было нельзя. Мы даем ей полные дозы химиопрепаратов, проводим один курс, получаем ремиссию, родоразрешаем, она рожает своего мальчишку. Тогда мы еще не знали, что только что родившая женщина, ранее перенесшая химиотерапию, обладает пониженным иммунитетом, и повторный цикл надо проводить не раньше чем через месяц после родоразрешения. Мы провели Лене повторную терапию всего лишь через две недели после родов, развились страшные инфекционные осложнения, цитомегаловирусная инфекция. Она лежала у нас три недели с аппаратом для искусственной вентиляции легких, но выжила — и уже 12 лет живет в состоянии ремиссии.
После случая с Леной я понял, что основная наша цель — минимизировать лейкемию до момента родоразрешения. Провести терапию, добиться ремиссии и сделать так, что будто бы рожает здоровая женщина. То, что цитостатические препараты не проникают сквозь плацентарный барьер, мы в институте поняли по первым же анализам крови, которые брали у новорожденных. Честно говоря, мы ждали некоторого подавления внутреннего кроветворения, но нет: даже если у мамы в момент родов было маловато лейкоцитов, то у ребенка их было нормальное количество. А все — из-за плаценты.

Анна Петрова (30 лет) и Петр (3 года), Москва
Возьмите любой хороший учебник иммунологии, и первая глава там обязательно будет посвящена иммунологии плаценты — потому что это совершенно фантастический орган. Ведь женщина вынашивает чужеродную ткань, но плацента не приводит к иммунному конфликту между клетками женщины и плода. Все чужеродное откачивается плацентой, как помпой, к плоду проникает только то, что необходимо ребенку из крови матери. А остальное не проходит. И именно поэтому мы можем давать беременной женщине дозу химиопрепаратов, соразмерную с дозой здорового мужчины.
Если диагноз «лейкоз» ставится беременной в первом триместре, то аборт ей рекомендован, поскольку у нее еще не сформирован достаточный плацентарный барьер и плод не защищен от токсичного воздействия химиопрепаратов. Однако, удивительным образом, практически у всех беременных женщин лейкемия обнаруживается либо во втором, либо в третьем триместре — примерно со срока в 20 недель. Вероятно, это происходит из-за гормональных изменений, и кровь «острее» реагирует.
Я не могу сказать, почему в нашем институте практика проведения адекватной химиотерапии беременным женщинам стала своеобразным научным и клиническим прорывом. Это страшная ответственность — назначать беременной, а затем роженице такую тяжелую терапию. Такие процедуры, как переливание ей тромбоцитных масс, кажутся просто невозможными. Но это все ерунда на самом деле. Считается, что беременные — слабые, что они ничего не могут, но эти догмы — чистой воды бред. У беременных фантастическая способность к адаптации. За почти 20 лет работы у нас не было ни одной смерти матери в момент химиотерапии. Беременные женщины переносили лечение точно так же, как и все остальные.
Впрочем, это вовсе не означает, что они переносили лечение легко. Программа химиотерапии зависит от формы лейкемии, но в случае с беременными, безусловно, требует гораздо большего контроля. Параметры у наших беременных критические: сто лейкоцитов вместо семи тысяч, а тромбоциты — двадцать тысяч вместо двухсот, причем не свои, а «закачанные» в результате переливания тромбоцитных масс. Приходится делать и трансфузию, и проводить курсы антибиотиков, и держать постоянный контроль, чтобы не было гипотрофии плода и отслойки плаценты. Нужно иметь и гематологическую, и хирургическую службы, чтобы в случае развития «ургентной» ситуации — например отслойки плаценты и кровотечений — развернуть операционную в течение пяти минут. Наши гематологи — универсальные военные — должны, помимо прочего, постоянно носить при себе стетоскоп, чтобы слушать сердце плода. Дежурной акушерской службы у нас нет, и поэтому, если у плода развивается тахикардия, надо отслеживать ее на самых ранних стадиях, чтобы быть настороже.
Все пациентки подсознательно понимают, что происходит. Беременные женщины — они как солдаты. У них есть такой грубый мотивационный вектор, на который нанизывается все, чем они живут. Для них вынашивание ребенка — основополагающая вещь. Поэтому все они очень собранные, стеничные и не отделяют свою жизнь от жизни ребенка.
По иронии судьбы, когда я учился на шестом курсе, то посещал лекции замечательного акушера-гинеколога Зои Михайловны Федер. Я не собирался быть акушером-гинекологом, мне просто очень нравилось, как она преподает. Потом наши пути разошлись, мы жили в совершенно разных областях, но 30 лет спустя, когда в институте мы занялись беременными женщинами, я пригласил Зою Михайловну к нам — она уже вышла на пенсию и стала работать консультирующим акушером-гинекологом. Она, кстати, была против полных доз химиотерапии и кричала на меня за то, что я «мучаю несчастных женщин». Это нормально. В медицине нужно кричать. Без крика нет противостояния, нет желания двигаться дальше. Для принятия решения нужен оппонент, и я всегда говорю, что от оппонентов нельзя избавляться — наоборот, их надо искать, и двигаться вперед.
Наши врачи присутствовали на всех первых родах — такие рождались аккуратные, маленькие, кукольные дети. Половина новорожденных родилась у нас, половина — в обычных роддомах. Доходило до абсурда: мы в гематологическом научном центре роддом устроили, а как новорожденных легализовать?! Нам приходилось левыми путями справки доставать, чтобы выдать справку о рождении.
Если роды проходят в нашем институте, при необходимости и по первому требованию к нам приезжают из Перинатального центра на Севастопольском проспекте — на мотоциклах, чтобы не попасть в пробку. Педиатры из выездных бригад приезжают к нам из Морозовской и Филатовской больниц — если вдруг дети недоношенные, то с кювезами. Это такая взаимовыручка профессионалов: ты идешь навстречу, и тебе — тоже. А что еще делать? Эти женщины — они никому не нужны. Лучше от них подальше держаться, а то вдруг умрут. А война — она все спишет. Так вот. Не спишет. Они имеют право на существование, равно как и их дети — здоровые и очень хорошие.
Проблема еще и в том, что никто не говорит беременной женщине, что шансы на излечение от лейкоза у нее примерно одинаковые с «обычной» женщиной. С другой стороны, часть пациенток все-таки погибает, и с таким трудом рожденный ребенок может остаться один-одинешенек. Благодаря нашему лечению беременных на свет появилось сорок детей. И никто из них не остался одиноким — мало того, они все развиваются несколько лучше своих сверстников, поскольку их родные уделяют им повышенное внимание.
В академическом сообществе на меня смотрят со смесью уважения и удивления: дескать, все это здорово, Савченко, но на кой ляд тебе эти дополнительные приключения, эти бабы с пузом… Но возьмите вот такой случай: у меня была пациентка. Она родила мальчика. Да, она погибла десять лет спустя от рецидива, но ее сын помнит маму.
Процент выживания женщин при лейкемии одинаковый и у беременных, и у небеременных: 50%. Но при грамотной терапии эти женщины успевают родить, а погибают при рецидивах заболевания. Я долго не мог понять, как сформулировать свою концепцию. А потом просто написал: «При лейкемии есть концепция спасения жизни. Если ты будешь спасать одну из двух, то не спасешь никого. Если две — то точно спасешь одну». Вот и все. Очень просто. Расхожий в акушерстве принцип «спасать сначала ребенка, а потом — мать» в нашем случае не работает. И если говорить о социальном вкладе Валерия Савченко и всего огромного коллектива нашего института, то можно сказать точно: мы единственные, кто увеличил народонаселение от 0 до 40. Всего 40 детей, зато каких — первых.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
0
Как хорошо, что есть такие люди, которые дарят надежду и жизнь
- ↓
0
Надеюсь они и дальше будут спасать наших детей, а не где-нибудь в другой стране (я не имею в виду поездки по обмену опытом).
- ↓
0
МО-ЛО-ДЕЦ!!!
- ↓
0
Молодцы, что рискнули!
- ↓
0
БЛАГОДАРЮ!!!
- ↓