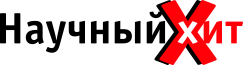О советской научной интеллигенции
В РАНХиГС завершилось трехлетнее исследование ценностей советской научно-технической интеллигенции. В эпоху, когда стране нужно снова «догонять», тема оказалась чрезвычайно актуальной.

Закат большой советской науки, по мысли социологов, начался не в 90-е, как принято считать, а раньше: когда поколение первопроходцев-фронтовиков, ценящих личную свободу, сменилось «технарями».
О советских ученых не скажешь, что они были властителями дум. Все-таки закрытые институты и естественно-научные интересы не располагали к публичной деятельности. Но идеал ученого, воспетый в «Девяти днях одного года» и ностальгически оплакиваемый сегодня, до сих пор не потерял красок.
Эти люди — делавшие «большую науку» в СССР, породившие научные школы и свою субкультуру — были тем производящим слоем советского общества, плоды которого заставляют современных империалистов грустить о развале Союза. Парадокс, впрочем, налицо: среда и обстановка в этом слое совсем не соответствовали общему советскому фону. Технологический и интеллектуальный успех стране в ХХ веке обеспечили те, кто жил в ней «по правилу исключения».
Понять особенности этого исключения с 2011 года пыталась группа ученых из Центра гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), занятая в проекте «Идеология и практика технологического прорыва: люди и институции», реализуемого при поддержке Фонда Михаила Прохорова и администрации Калужской области. Пара сотен глубинных интервью с сотрудниками обнинских НИИ — людьми, стоявшими у истоков научно-технических программ по использованию мирного атома в Советском Союзе,— стала основой для масштабного изучения «личной истории» энтээровцев, их взглядов на себя и страну.
— Очевидно, что сегодня есть большой интерес к тому, как возник мир советских НИИ с его отношениями, человеческой средой и институциональной архитектурой: куда он делся, что от него сохранилось,— поясняет руководитель исследования Андрей Зорин, профессор Оксфордского университета, научный руководитель Центра Историко-культурных исследований РАНХиГС.— Бесконечно возникают разговоры о том, что хорошо бы его возродить. Поэтому есть резон разобраться. Обнинск в качестве полевой площадки нашего проекта был выбран, в частности, потому, что степень его закрытости меньше, чем во многих других аналогичных городах, все-таки атом мирный. В этом году исследование вышло на новый уровень: полевая часть завершена, готовим коллективную монографию, собираем открытую базу данных и делимся первыми выводами.
Военное дело
Исследование, начавшись с изучения ценностей советских ученых и их трудовой этики, сразу же высветило противоречие. В основе мировоззрения обнинской научно-технической интеллигенции послевоенного призыва, мобилизованной государством работать в науке, жившей на полусекретном положении, создававшей мощь ядерной державы, как оказалось, лежали ценности свободы, хоть и не в традиционно-либеральном их понимании.
— Если есть что-то, о чем говорили все наши респонденты, так это свобода,— рассказывает Андрей Зорин.— И нам было очень интересно выяснить, каким образом достигалось ощущение свободы у человека, которому свирепый режим закрытости возвращает чувство собственного достоинства, а не отнимает его. Второй значимый парадокс здесь — что при очень высоком уровне свободомыслия очень высока была и поддержка государства. Люди ассоциировали себя с тем, что они делают, и сообразно с этим жили.
Совпадение таких качеств во всяком коллективе, и научном в том числе, встречается гораздо реже, чем хотелось бы официальным идеологам. Это подтверждают наблюдения за последующими научными «призывами». Свободомыслие, творческий настрой, удовлетворенность работой и знание своей миссии свойственны пионерам большой науки. С увеличением числа НИИ и приходом в науку новых поколений эти качества не только не закреплялись, но стали исчезать. Отношения формализовывались, прорывы случались все реже. Широкий слой энтээровцев постепенно изменял тому зерну 40-50-х годов, с которого все начиналось. Отсюда исследователи сделали вывод: один из главных секретов послевоенной науки, отправившей человека в космос,— это люди, особое поколение 20-30-х, которое могло вместить противоречия и совершить скачок.
— У всех пионеров был опыт войны: кто-то застал ее ребенком, а кто-то прошел Великую Отечественную от первого дня до последнего,— рассказывает Андрей Зорин.— И это ощущение себя свободным перед лицом колоссальной опасности, которое часто встречается в рассказах фронтовиков, осталось с ними на всю жизнь. Многие наши собеседники отмечали, что пришли в науку, потому что после 45-го года настоящий «драйв» был именно там: нехоженое поле, на которое брошены все ресурсы государства. И не стоит забывать, что работа физиков-ядерщиков была сопряжена с настоящим риском — они находились в постоянной, физической опасности. Ощущение пионера непосредственным образом связано с мыслью, что в тебя в любой момент могут выстрелить из-за угла. Плюс еще один неповторимый фактор того времени — это существование деревни, готовой поставлять ресурсы и кадры. Первые ученые в массе своей бежали из деревень: перед ними маячила перспектива сверхценности, успеха, а с другой стороны — обступала реальность надвигающейся гибели. Никто не собирался возвращаться домой. Уходя в науку, они уходили навсегда.
Их свобода при всем том редко переходила в диссидентство. С одной стороны, режим существования в условиях, как сказал Андрей Сахаров, «пробного коммунизма» смягчал ценностный конфликт. Когда на остальной части советской ойкумены преследовали стиляг, физики-теоретики, засевшие в «теоретическом тупике» секретной Лаборатории, могли без отрыва от создания новой атомной науки и к абсолютному ужасу комменданта восседать в позе лотоса или танцевать канкан. А на режимный объект, который и на карту не был нанесен, приезжали иностранные делегации. Крупные конфликты с системой случались нечасто: один из них накрыл Обнинскую ученую вольницу жесткой системой цензуры в конце 60-х, когда парторга теоротдела Физико-энергетического института исключили из КПСС за самиздат и нарушение партийной дисциплины.
— Диссидентам сочувствовали, могли с ними общаться, но в деле их жизни почти не участвовали,— полагает Аркадий Липкин, руководитель Центра истории и философии науки МФТИ.— Это еще одна характерная черта послевоенной научной среды. Пока можно было что-то создавать, бороться против не приходило в голову. Дело не только в конформизме, но в принципиально созидательной природе этого слоя. В разные времена плодородной почвой для высокой культуры в стране были разные социальные группы, во второй половине XIX века, например,— университетская среда. А вот в послевоенном СССР — люди большой науки, из закрытых НИИ. Сами они не занимались обличением, но были тем сообществом, соприкоснувшись с которым можно было понять — остальные советские люди живут все-таки не так, как следует.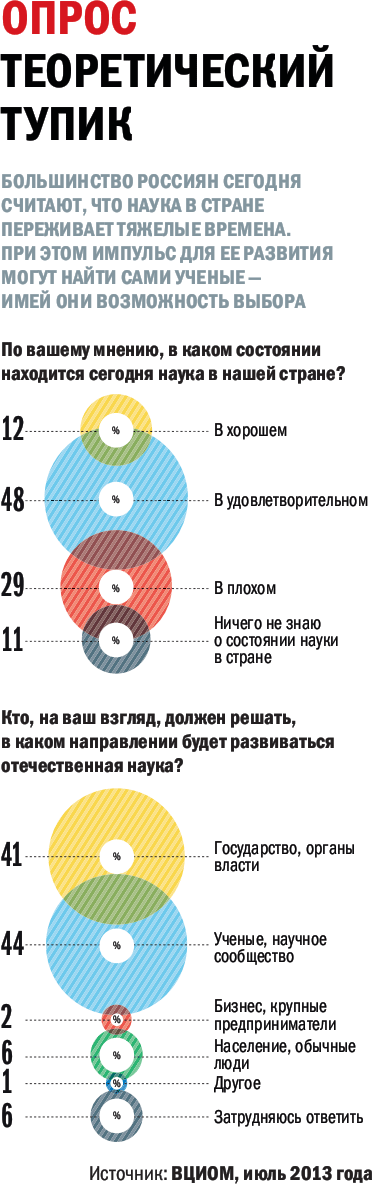
Расслоение слоя
Численность научно-технических работников в СССР, если считать занятых и в образовании, и на производстве, достигала 10 млн человек в 70-е годы прошлого века. В большой науке, по самым щедрым подсчетам, работало не более миллиона человек. На 242 млн населения не так уж и много, к тому же контакты ученых с массами осложнялись то проживанием в закрытых городах, то строгой секретностью проектов. Соприкоснуться с большим миром, решающая встреча с которым произошла в Великую Отечественную, было трудно — так же трудно транслировался и опыт жизни пионеров.
— Существует миф, что советскую науку погубили реформы 90-х,— рассказывает Роман Абрамов, замзавкафедрой анализа социальных институтов НИУ ВШЭ.— С формальной точки зрения это так, но кризис начался гораздо раньше, и он был связан не с недостатком финансирования или государственного интереса, а с поколенческой сменой. Я детально изучал среду ученых-кибернетиков, собранных в начале 50-х в Пензе и ее окрестностях. И стало очевидно: призыв 60-х был уже менее заинтересован в своей работе и удовлетворен ей, а люди 70-х демонстрировали настоящий спад настроений.
Научные школы при этом жили, уникальные МИФИ, МФТИ, созданные в одночасье и с нуля, продолжали выпускать специалистов и в 70-е. Образование оставалось качественным, но мотивация снижалась: менялась среда.
— Когда в 1955 году директор секретной Лаборатории «В» Блохинцев представлял на Женевской конференции макет первой в мире АЭС, иностранные специалисты были не слишком впечатлены станцией, нечто подобное они уже видели в США,— рассказывает Галина Орлова, приглашенный исследователь РАНХиГС, соруководитель Обнинского проекта, доцент кафедры психологии личности Южного федерального университета.— Фурор вызвала способность Советов в рекордно сжатые сроки наладить массовую подготовку высококлассных кадров. Один из членов американской делегации в отчете отмечал, что «ничего подобного у нас на данный момент не существует». Образование, которое один из наших собеседников назвал «образованием лицейского типа», имея в виду плотный человеческий контакт между студентами и преподавателями, идущими в аудиторию прямо из лаборатории или с полигона, было образованием будущего. Застывших учебников не существовало. Это создавало принципиально неповторимую атмосферу. Со временем сформировалась школа, но накал ослаб. В НИИ все чаще стали приходить те, кому уже не было интересно.
Поздних, массовых советских энтээровцев, уже не покорявших научные рубежи, а занимавшихся рутинной работой, некоторые исследователи даже называют «темным двойником» послевоенных ученых. Среди его черт — узкотехнарский взгляд на мир, формализм и, наконец, стремление сделать карьеру. В период, когда старший научный сотрудник НИИ с кандидатской степенью мог получать 360 рублей в месяц (средняя зарплата по стране — 120 рублей), материальные интересы то и дело брали верх. Никого не удивляло, например, что в Пушкине под Ленинградом в конце 70-х защищались диссертации аспирантов со всей страны, посвященные использованию списанных вертолетных двигателей в работе тракторов. Параллельно в лабораториях появлялись «шестидесятники», но этой генерации ученых рамки советских НИИ, оккупированных карьеристами, все чаще бывали узки.
— Социальная политика тех лет препятствовала интеграции инженерного корпуса в особую группу со своими специфическими, артикулированными ценностями, поведенческим кодексом и очерченными границами,— считает Олег Лейбович, профессор Пермского государственного института искусства и культуры.— Слишком велика была дифференциация между верхами и низами, учеными и инженерами. Мир советских энтээровцев, оставаясь эталонным для остальных слоев городского населения, начинал раскалываться.
Замкнутый цикл
— Когда сегодня спрашивают, куда ушла та среда, та генерация людей, хочется ответить, что в каком-то смысле никуда не ушла,— рассказывает Галина Орлова.— Многие из наших собеседников 20-30-х годов рождения по-прежнему работают в своем НИИ. Впрочем, у рабочего долголетия обнаружилась еще одна составляющая: разреженная межпоколенческая мобильность. Большая наука уже к 1970-м годам оказалась в значительной степени делом первых мобилизованных поколений.
Потомки «больших ученых» выбирают разные пути. Хотя, как правило, целеустремленное старшее поколение активно влияет на самоопределение младшего, конечный итог непредсказуем. Кто-то остается в НИИ, где работали отцы и деды, кто-то уезжает за границу. А внук одного из сотрудников Физико-энергетического института хоть и поступил по совету деда в МИФИ, проучился там недолго: бросил институт, стал поваром и совершенно счастлив.
Культурное влияние энтээровцев на страну и соотечественников, несомненно, существовало, но сохраняло оттенок принципиального непонимания элиты массами.
— В некотором смысле советское общество так и не узнало своих ученых,— полагает Андрей Зорин.— Уникальная среда, в которой стала возможна большая наука, была создана за счет гиперконцентрации ресурсов в определенном месте. Когда то, что создается в месте, где ресурсы гиперконцентрированы, воспринимается там, откуда эти ресурсы забирают, прямого воздействия заведомо не может быть. Социальных групп, способных воспринять «уроки» личной свободы от ученых, почти не существовало.
Пытаясь сегодня, поверх голов, разглядеть контуры уже российского «производящего слоя», уроки можно выучить задним числом. Воспроизвести, уверяют исследователи, ничего не получится: те институты были созданы для тех людей, а пионерская наука остается делом первопроходцев. Но сам принцип — создавая большую науку, делать ставку на ценности лично свободных людей,— видимо, работает.

Закат большой советской науки, по мысли социологов, начался не в 90-е, как принято считать, а раньше: когда поколение первопроходцев-фронтовиков, ценящих личную свободу, сменилось «технарями».
О советских ученых не скажешь, что они были властителями дум. Все-таки закрытые институты и естественно-научные интересы не располагали к публичной деятельности. Но идеал ученого, воспетый в «Девяти днях одного года» и ностальгически оплакиваемый сегодня, до сих пор не потерял красок.
Эти люди — делавшие «большую науку» в СССР, породившие научные школы и свою субкультуру — были тем производящим слоем советского общества, плоды которого заставляют современных империалистов грустить о развале Союза. Парадокс, впрочем, налицо: среда и обстановка в этом слое совсем не соответствовали общему советскому фону. Технологический и интеллектуальный успех стране в ХХ веке обеспечили те, кто жил в ней «по правилу исключения».
Понять особенности этого исключения с 2011 года пыталась группа ученых из Центра гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), занятая в проекте «Идеология и практика технологического прорыва: люди и институции», реализуемого при поддержке Фонда Михаила Прохорова и администрации Калужской области. Пара сотен глубинных интервью с сотрудниками обнинских НИИ — людьми, стоявшими у истоков научно-технических программ по использованию мирного атома в Советском Союзе,— стала основой для масштабного изучения «личной истории» энтээровцев, их взглядов на себя и страну.
— Очевидно, что сегодня есть большой интерес к тому, как возник мир советских НИИ с его отношениями, человеческой средой и институциональной архитектурой: куда он делся, что от него сохранилось,— поясняет руководитель исследования Андрей Зорин, профессор Оксфордского университета, научный руководитель Центра Историко-культурных исследований РАНХиГС.— Бесконечно возникают разговоры о том, что хорошо бы его возродить. Поэтому есть резон разобраться. Обнинск в качестве полевой площадки нашего проекта был выбран, в частности, потому, что степень его закрытости меньше, чем во многих других аналогичных городах, все-таки атом мирный. В этом году исследование вышло на новый уровень: полевая часть завершена, готовим коллективную монографию, собираем открытую базу данных и делимся первыми выводами.
Военное дело
Исследование, начавшись с изучения ценностей советских ученых и их трудовой этики, сразу же высветило противоречие. В основе мировоззрения обнинской научно-технической интеллигенции послевоенного призыва, мобилизованной государством работать в науке, жившей на полусекретном положении, создававшей мощь ядерной державы, как оказалось, лежали ценности свободы, хоть и не в традиционно-либеральном их понимании.
— Если есть что-то, о чем говорили все наши респонденты, так это свобода,— рассказывает Андрей Зорин.— И нам было очень интересно выяснить, каким образом достигалось ощущение свободы у человека, которому свирепый режим закрытости возвращает чувство собственного достоинства, а не отнимает его. Второй значимый парадокс здесь — что при очень высоком уровне свободомыслия очень высока была и поддержка государства. Люди ассоциировали себя с тем, что они делают, и сообразно с этим жили.
Совпадение таких качеств во всяком коллективе, и научном в том числе, встречается гораздо реже, чем хотелось бы официальным идеологам. Это подтверждают наблюдения за последующими научными «призывами». Свободомыслие, творческий настрой, удовлетворенность работой и знание своей миссии свойственны пионерам большой науки. С увеличением числа НИИ и приходом в науку новых поколений эти качества не только не закреплялись, но стали исчезать. Отношения формализовывались, прорывы случались все реже. Широкий слой энтээровцев постепенно изменял тому зерну 40-50-х годов, с которого все начиналось. Отсюда исследователи сделали вывод: один из главных секретов послевоенной науки, отправившей человека в космос,— это люди, особое поколение 20-30-х, которое могло вместить противоречия и совершить скачок.
— У всех пионеров был опыт войны: кто-то застал ее ребенком, а кто-то прошел Великую Отечественную от первого дня до последнего,— рассказывает Андрей Зорин.— И это ощущение себя свободным перед лицом колоссальной опасности, которое часто встречается в рассказах фронтовиков, осталось с ними на всю жизнь. Многие наши собеседники отмечали, что пришли в науку, потому что после 45-го года настоящий «драйв» был именно там: нехоженое поле, на которое брошены все ресурсы государства. И не стоит забывать, что работа физиков-ядерщиков была сопряжена с настоящим риском — они находились в постоянной, физической опасности. Ощущение пионера непосредственным образом связано с мыслью, что в тебя в любой момент могут выстрелить из-за угла. Плюс еще один неповторимый фактор того времени — это существование деревни, готовой поставлять ресурсы и кадры. Первые ученые в массе своей бежали из деревень: перед ними маячила перспектива сверхценности, успеха, а с другой стороны — обступала реальность надвигающейся гибели. Никто не собирался возвращаться домой. Уходя в науку, они уходили навсегда.
Их свобода при всем том редко переходила в диссидентство. С одной стороны, режим существования в условиях, как сказал Андрей Сахаров, «пробного коммунизма» смягчал ценностный конфликт. Когда на остальной части советской ойкумены преследовали стиляг, физики-теоретики, засевшие в «теоретическом тупике» секретной Лаборатории, могли без отрыва от создания новой атомной науки и к абсолютному ужасу комменданта восседать в позе лотоса или танцевать канкан. А на режимный объект, который и на карту не был нанесен, приезжали иностранные делегации. Крупные конфликты с системой случались нечасто: один из них накрыл Обнинскую ученую вольницу жесткой системой цензуры в конце 60-х, когда парторга теоротдела Физико-энергетического института исключили из КПСС за самиздат и нарушение партийной дисциплины.
— Диссидентам сочувствовали, могли с ними общаться, но в деле их жизни почти не участвовали,— полагает Аркадий Липкин, руководитель Центра истории и философии науки МФТИ.— Это еще одна характерная черта послевоенной научной среды. Пока можно было что-то создавать, бороться против не приходило в голову. Дело не только в конформизме, но в принципиально созидательной природе этого слоя. В разные времена плодородной почвой для высокой культуры в стране были разные социальные группы, во второй половине XIX века, например,— университетская среда. А вот в послевоенном СССР — люди большой науки, из закрытых НИИ. Сами они не занимались обличением, но были тем сообществом, соприкоснувшись с которым можно было понять — остальные советские люди живут все-таки не так, как следует.
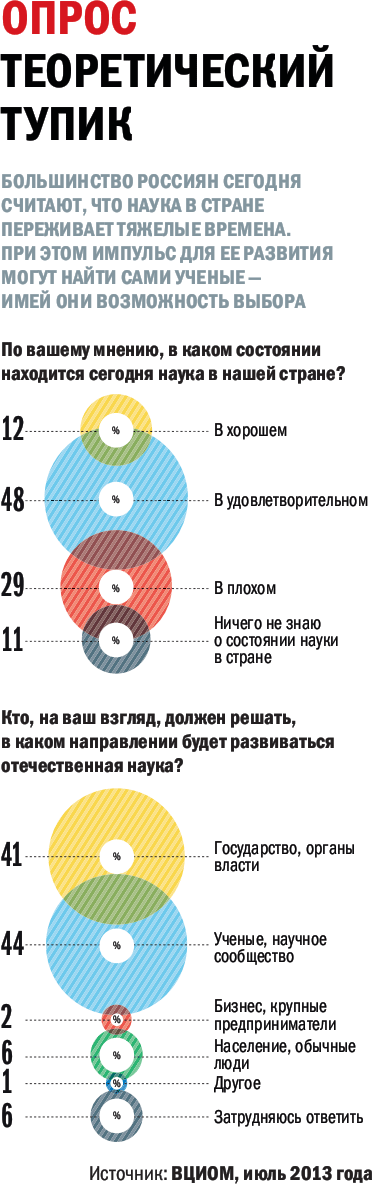
Расслоение слоя
Численность научно-технических работников в СССР, если считать занятых и в образовании, и на производстве, достигала 10 млн человек в 70-е годы прошлого века. В большой науке, по самым щедрым подсчетам, работало не более миллиона человек. На 242 млн населения не так уж и много, к тому же контакты ученых с массами осложнялись то проживанием в закрытых городах, то строгой секретностью проектов. Соприкоснуться с большим миром, решающая встреча с которым произошла в Великую Отечественную, было трудно — так же трудно транслировался и опыт жизни пионеров.
— Существует миф, что советскую науку погубили реформы 90-х,— рассказывает Роман Абрамов, замзавкафедрой анализа социальных институтов НИУ ВШЭ.— С формальной точки зрения это так, но кризис начался гораздо раньше, и он был связан не с недостатком финансирования или государственного интереса, а с поколенческой сменой. Я детально изучал среду ученых-кибернетиков, собранных в начале 50-х в Пензе и ее окрестностях. И стало очевидно: призыв 60-х был уже менее заинтересован в своей работе и удовлетворен ей, а люди 70-х демонстрировали настоящий спад настроений.
Научные школы при этом жили, уникальные МИФИ, МФТИ, созданные в одночасье и с нуля, продолжали выпускать специалистов и в 70-е. Образование оставалось качественным, но мотивация снижалась: менялась среда.
— Когда в 1955 году директор секретной Лаборатории «В» Блохинцев представлял на Женевской конференции макет первой в мире АЭС, иностранные специалисты были не слишком впечатлены станцией, нечто подобное они уже видели в США,— рассказывает Галина Орлова, приглашенный исследователь РАНХиГС, соруководитель Обнинского проекта, доцент кафедры психологии личности Южного федерального университета.— Фурор вызвала способность Советов в рекордно сжатые сроки наладить массовую подготовку высококлассных кадров. Один из членов американской делегации в отчете отмечал, что «ничего подобного у нас на данный момент не существует». Образование, которое один из наших собеседников назвал «образованием лицейского типа», имея в виду плотный человеческий контакт между студентами и преподавателями, идущими в аудиторию прямо из лаборатории или с полигона, было образованием будущего. Застывших учебников не существовало. Это создавало принципиально неповторимую атмосферу. Со временем сформировалась школа, но накал ослаб. В НИИ все чаще стали приходить те, кому уже не было интересно.
Поздних, массовых советских энтээровцев, уже не покорявших научные рубежи, а занимавшихся рутинной работой, некоторые исследователи даже называют «темным двойником» послевоенных ученых. Среди его черт — узкотехнарский взгляд на мир, формализм и, наконец, стремление сделать карьеру. В период, когда старший научный сотрудник НИИ с кандидатской степенью мог получать 360 рублей в месяц (средняя зарплата по стране — 120 рублей), материальные интересы то и дело брали верх. Никого не удивляло, например, что в Пушкине под Ленинградом в конце 70-х защищались диссертации аспирантов со всей страны, посвященные использованию списанных вертолетных двигателей в работе тракторов. Параллельно в лабораториях появлялись «шестидесятники», но этой генерации ученых рамки советских НИИ, оккупированных карьеристами, все чаще бывали узки.
— Социальная политика тех лет препятствовала интеграции инженерного корпуса в особую группу со своими специфическими, артикулированными ценностями, поведенческим кодексом и очерченными границами,— считает Олег Лейбович, профессор Пермского государственного института искусства и культуры.— Слишком велика была дифференциация между верхами и низами, учеными и инженерами. Мир советских энтээровцев, оставаясь эталонным для остальных слоев городского населения, начинал раскалываться.
Замкнутый цикл
— Когда сегодня спрашивают, куда ушла та среда, та генерация людей, хочется ответить, что в каком-то смысле никуда не ушла,— рассказывает Галина Орлова.— Многие из наших собеседников 20-30-х годов рождения по-прежнему работают в своем НИИ. Впрочем, у рабочего долголетия обнаружилась еще одна составляющая: разреженная межпоколенческая мобильность. Большая наука уже к 1970-м годам оказалась в значительной степени делом первых мобилизованных поколений.
Потомки «больших ученых» выбирают разные пути. Хотя, как правило, целеустремленное старшее поколение активно влияет на самоопределение младшего, конечный итог непредсказуем. Кто-то остается в НИИ, где работали отцы и деды, кто-то уезжает за границу. А внук одного из сотрудников Физико-энергетического института хоть и поступил по совету деда в МИФИ, проучился там недолго: бросил институт, стал поваром и совершенно счастлив.
Культурное влияние энтээровцев на страну и соотечественников, несомненно, существовало, но сохраняло оттенок принципиального непонимания элиты массами.
— В некотором смысле советское общество так и не узнало своих ученых,— полагает Андрей Зорин.— Уникальная среда, в которой стала возможна большая наука, была создана за счет гиперконцентрации ресурсов в определенном месте. Когда то, что создается в месте, где ресурсы гиперконцентрированы, воспринимается там, откуда эти ресурсы забирают, прямого воздействия заведомо не может быть. Социальных групп, способных воспринять «уроки» личной свободы от ученых, почти не существовало.
Пытаясь сегодня, поверх голов, разглядеть контуры уже российского «производящего слоя», уроки можно выучить задним числом. Воспроизвести, уверяют исследователи, ничего не получится: те институты были созданы для тех людей, а пионерская наука остается делом первопроходцев. Но сам принцип — создавая большую науку, делать ставку на ценности лично свободных людей,— видимо, работает.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
0
)) Нескольким поколениям (и мне) повезло. Что ж… мозгов удержать СССР не хватило, жаль.
- ↓
0
Мозги-то есть… только они ради кусочка хлеба курьерами и уборщицами работают. А на западе выясняют какая блоха выше прыгает. А у нас НИЧЕГО давно не выясняют. Очень жаль.
- ↑
- ↓